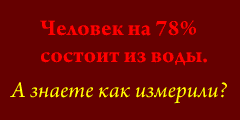Когда на Руси было жить хорошо
Сила исторической России

Какой она была? Во всяком случае, не такой, как нам рассказывали в школе. «Евгений Онегин» — разумеется, не энциклопедия русской жизни, это звание больше подходит «Ивану Выжигину» Фаддея Булгарина — при всей несопоставимости авторов.
Но с какого конца ни подойди к русской литературе, она менее всего готовила своих читателей к тоталитаризму. В ней нет ни одного образа сверхчеловека, самой судьбой предназначенного распоряжаться массами. А вот на стороне «маленького человека» она была всегда — как, может быть, ни одна другая литература в мире. Само наличие темы «маленького человека» достаточно ясно говорит о встроенной гуманности общества, породившего эту литературу. В ней был негативизм, порой была легкомысленная «жажда бури», но пафоса подчинения («дайте мне начальника, и я поклонюсь ему в огромные ноги»), восторга перед властью не было никогда.
Большевистский утопический проект («западноевропейское и абсолютно нерусское явление», по определению Освальда Шпенглера) был обречен по многим причинам, хотя хватило бы и той, что стала главной: он был несовместим с исторической Россией.
Большевики относились к этой силе крайне серьезно, бросив на борьбу с ней весь арсенал наличных средств — от сноса храмов и памятников и физического уничтожения целых классов и сословий до сплошного очернения отечественной истории. Выражения «проклятое прошлое» и «родимые пятна капитализма» до сих пор живы в народной памяти.
О том, как далеко были готовы зайти идеологи утопии в этом направлении, говорит следующий факт: в 1930 году было объявлено о предстоящей замене кириллического алфавита латинским (чтобы «освободить трудящиеся массы от всякого влияния дореволюционной печатной продукции»). Лишь огромная дороговизна мероприятия, да еще на фоне надрыва индустриализации, избавила нашу культуру от этой беды. Что же касается клеветы на русское прошлое, она настолько пропитала картину мира наших соотечественников, что разбираться с ней (и с целой субкультурой на ее основе) — работа поколений.
Внедренцы утопии особенно остро ощущали чуждость русской культуры своим идеям, отсюда лозунг «организованного упрощения» и «понижения культуры», с которым выступали Николай Бухарин (обладатель звания «любимец партии»), Алексей Гастев, Михаил Левидов и проч.
Их главный вождь Владимир Ленин на XI съезде РКП(б) в 1922 году выказал редкую зоркость, сказав: «Бывает так, что побежденный свою культуру навязывает завоевателю. Не вышло ли нечто подобное в столице РСФСР и не получилось ли тут так, что 4700 коммунистов (почти целая дивизия, и все самые лучшие) оказались подчиненными чужой культуре?»
Насчет «завоевателя» и «чужой культуры» сказано очень точно и откровенно. И провидчески: побежденная (якобы) культура действительно победила — только, к сожалению, много позже. История поспешает медленно.
Своей победе над утопией мы обязаны самому устройству нашей культуры. Ей изначально чужды компоненты, на которые только и может опираться тоталитарная власть: жестокость и привычка к нерассуждающей дисциплине.
Наше постперестроечное развитие — не подражание чьему-то образцу. Россия вернулась к цивилизационному выбору, который однозначен на всем ее пути — от крещения и до 1917 года, вернулась к своей сути. Но это, увы, не значит, что гарантировано восстановление прежних ценностей и былого естественного самоощущения.
Но, главное, утопия у нас не прижилась, мы ее отторгли на тканевом уровне и вышли из эксперимента сами. А вот смогла ли бы, к примеру, Германия одолеть свой тоталитаризм сама — большой вопрос. Гитлеру, чтобы стать полным хозяином страны, не потребовалась пятилетняя гражданская война и чудовищный, беспримерный террор. За считанные месяцы он радикально изменил Германию при полном восторге ее населения. Германия, если кто забыл, — страна «западной цивилизации».
Ушедшая Россия обладала высокой притягательностью. За 87 лет между 1828 и 1915 гг., согласно статистике, обобщенной Владимиром Кабузаном, в Россию вселилось 4,2 млн иностранцев, больше всего из Германии (1,5 млн человек) и Австро-Венгрии (0,8 млн). К началу Первой мировой войны наша страна была вторым после США центром иммиграции в мире — впереди Канады, Аргентины, Бразилии, Австралии. Вне статистики остались переселявшиеся в собственно Россию жители ее окраин — прибалтийских и кавказских губерний, Туркестана, Великого княжества Финляндского, поляки и литовцы Царства Польского.
Как во всякую желанную страну, в Россию направлялась большая неучтенная иммиграция. Скажем, многие думают, будто наши «понтийские» греки — потомки чуть ли не участников плавания Язона за Золотым руном. На самом деле большинство «понтийцев» переселилось в русские владения в XIX веке из турецкой Анатолии и из собственно Греции. Многие из них сделали это минуя пограничный учет и контроль — черноморские берега знали разные интересные пути, читайте «Тамань» Лермонтова.
Скрытыми были большие переселения персов, китайцев и корейцев. То есть вместо 4,2 млн человек речь вполне может идти, скажем, о пяти, а скорее даже о шести миллионах иммигрантов.
Люди не переселяются в страны несвободы — туда, где господствует жесткий полицейский режим и (или) тяжкий социальный контроль, царит нетерпимость, нет уважения к собственности. Иноверцев и иноязыких не заманишь в «тюрьму народов». Цифры миграции в Россию опровергает все позднейшие россказни такого рода.